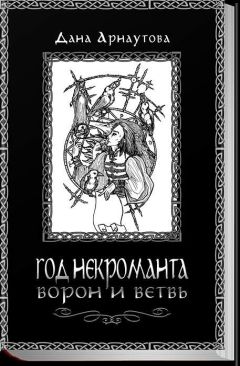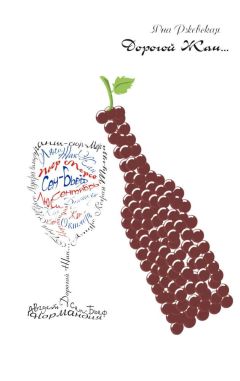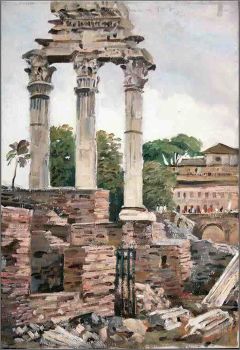Ворон и ветвь - Арнаутова Дана "Твиллайт"
– Быстрее, – говорю хрипло, стирая с губ кровь. – У нее есть что-то теплое?
– Плащ! Я сейчас…
Мальчишка мечется по комнате, не обращая внимания на трупы. Потом его проберет, конечно, а пока рассудок отказывается видеть больше, чем может осознать и принять. Я склоняюсь к девочке. Она дышит с хрипами, по лбу катятся бисеринки пота. Рыжая, как ее мать и брат. Просто лисье семейство какое-то! Сходство с маленькой лисичкой еще сильнее оттого, что личико заострилось, вытянулось…
– Вот!
Рыжий подскакивает ко мне с грубым серым плащом в руках, на плече у него сумка, набитая чем-то, и маленькие, почти детские сапоги. Натянув их девчонке на шерстяные штопаные чулки, я беру плащ, накидываю его вместо сброшенного одеяла, заворачиваю невесомое тельце.
– Может, я? – робко предлагает мальчишка и добавляет: – Мессир…
Меня – и рыцарским титулом? Мне почти смешно, только на смех нет сил.
– Успеешь еще, – обещаю я. – Дорога не из коротких.
Мы выходим беспрепятственно. Это странно и подозрительно. Оказавшись на улице, я тянусь вперед, туда, где видел огоньки. Три, четыре, пять… Они слишком крупные для людей, и через несколько мгновений я понимаю, что это несколько лошадей, стоящих в чем-то вроде крытого загона. Проклятье! Всего лишь лошади. Везет… Не иначе, Темный решил, что на сегодня с меня хватит.
Девчонка почти не оттягивает руки, так она невесома. Я перехватываю удобней, и неожиданно она обнимает меня за шею, бормоча что-то спросонья. Не упасть бы. Шаг, еще шаг… серые комки, покрытые кровью и пеплом, заполошно мечутся под ногами, не слыша зова. Бегите, крыски, бегите! Я втянул вас в чужую драку, чтоб хоть немного склонить чашу весов в свою сторону. Убирайтесь подальше, пока сюда не слетелся весь капитул!
– Куда нам теперь? – спрашивает мальчишка, идя рядом и озираясь по сторонам.
В руках он сжимает так и не пригодившуюся дубинку и, наверное, сожалеет, что не смог пустить ее в ход. Я бы в его возрасте точно сожалел…
– Энни!
Задушенный горловой вскрик, протянутые руки. Бринар кидается ко мне, едва не сбивая с ног, трясущимися пальцами убирает мокрые пряди с лица девчонки.
– Девочка моя… Благодарю вас, о, благодарю…
Она шепчет что-то еще, и я узнаю этот язык. Молльский! Она из Молля, потому и выговор такой. Я уже слышал его от капитана наемников, первым прозвавшего меня Кочергой. Капитан и его люди были молльцами – они не знали, что в наших краях не стоит ночевать в заброшенной деревне, если рядом старое кладбище…
– Пора идти, госпожа, – кашлянув, говорю я. – Вам нужен целитель, и ей тоже. Кто-нибудь может принять вас на ночь?
Она вскидывает голову тем же беспомощно-гордым движением, отбрасывая косы назад, и смотрит на меня.
– Не знаю, как благодарить вас, господин… Кочерга. Если вы сможете проводить нас до какого-нибудь трактира…
Значит, никто не может. Денег у них наверняка в обрез, раз продает последние сережки – в мочках маленьких красивых ушей ничего нет. А лекарь нужен. И вскоре инквизиторы начнут обыскивать город.
– Идемте, – обреченно говорю я, устраивая девчонку на руках. – Я слышал здесь про одну надежную лекарку…
В приземистом домишке госпожи Маделайн сухо и тепло, пахнет травами и медом. Окна, выходящие на другую сторону кладбища, плотно закрыты ставнями и завешены шерстяными полотнами, чтоб уж точно не пропустить злой зимний ветер. На видном месте – святая стрела, чтоб никто не помыслил обвинить почтенную целительницу в отсутствии благочестия, по стенам пучки трав и кореньев из перечня, разрешенного Церковью. Я усмехаюсь про себя: уж наверное где-нибудь в сарае или в подполе у госпожи Маделайн есть и другие травы – что-то я не помню в церковном перечне того же танневера, остро и резко воняющего со стола. Отблески очага мечутся по закопченным стенам, молльский лисенок только что подкинул в огонь охапку хвороста, и скоро здесь будет жарко. Мальчишке лекарка дала миску горячей похлебки, и он старается хлебать ее не слишком жадно, жмется к стене, старательно не глядя туда, где на постели у очага лекарка, закрыв глаза, медленно водит руками над его обнаженной до пояса сестрой. Бринар сидит на постели в ногах у дочери, крупные капли пота блестят на ее посеревшем лице, взгляд мечется между детьми. Ее миска так и стоит на краю стола – к еде даже не прикоснулась. Иногда она смотрит на меня – и сразу торопливо отводит взгляд.
Да, по-хорошему мне бы уйти, но Маделайн молчит, и мне не нравится ее молчание. Я не уйду, пока старуха не заговорит. Она опускает сухие узловатые пальцы на плоскую, почти мальчишескую грудь, начинает прощупывать и постукивать, склонив голову набок и прислушиваясь к тому, что отзывается ее рукам. Тень на стене превращает крючконосое лицо с острым подбородком в совершенное подобие злобной сказочной карги, и мальчишка то испуганно косится на эту тень, то поглядывает на дверь, словно сомневаясь, что в любой момент может уйти.
– Поставь воду, – роняет Маделайн, не открывая глаз.
Я зачерпываю из бадьи и молча вешаю медный котелок на крюк очажной цепи. На чисто выскобленном деревянном столе несколько полотняных мешочков с травами, еще три-четыре сухих пучка лежит рядом. Банки темного стекла, глиняные бутылочки, каменная ступка с пестиком.
– Держись подальше, – так же сухо и отрывисто бросает Маделайн, открывая глаза и вытирая руки полотенцем. – Здесь и без тебя хватает смертной Тьмы.
Могла бы не говорить: я сам прекрасно знаю, что мне можно, а чего лучше не делать. Вот воду поставить или разжечь правильный огонь – это запросто. А к тонким зельям меня и Керен не подпускал: могу испортить многомесячный труд, просто постояв рядом.
– Что ты хочешь сварить? – спрашиваю я, вглядываясь в пучки трав с безопасного расстояния и принюхиваясь к смеси ароматов. – Шандру?
– С каких пор смертеведы стали разбираться в лекарских травах? – надменно фыркает Маделайн, укрывая девчонку теплым одеялом.
Это она зря. У меня был не самый спокойный вечер, кровь еще не успокоилась, и я смиряю гнев только потому, что злиться рядом с лекарствами – последнее дело.
– Я не тяну к ним руки, женщина, – так же сухо отвечаю я. – Но не тебе судить, в чем я разбираюсь. Для буквицы у девочки слишком влажный кашель, а к шандре нужен ирис, но его я здесь не чую.
Маделайн хмуро глядит на меня, поджав и без того тонкие и бесцветные губы. Потом переводит взгляд на мешочки и пучки с травами.
– Переступень, корсилиум, танневер, поска и маргаритки, – негромко перечисляю я. – Полнолунная шандра, она же прасион, лягушачий мох, черная буквица. Переступень для обеих: матери и дочери. Все верно?
– И впрямь грядут последние дни, – бурчит Маделайн. – Если уж такие, как ты, ведают травами.
– Хоть я и смертевед, – усмехаюсь я, – но котелки и ступки мыл за целителем не из последних.
Минуту Маделайн молчит, ожесточенно растирая в ступке щепотку твердых коричневых семян, потом неохотно размыкает губы:
– Знавала я одного… Тоже говорил, что к шандре нужен ирис…
– Это говорил не он, – отзываюсь я. – Это говорил Одо из Мена, автор трактата о травах.
Глубоко вдохнув, на мгновение прикрываю глаза и выпускаю на волю легко слетающие с языка строки:
– У меня нет ириса, – угрюмо отзывается Маделайн. – Нынешней осенью многие болели грудью, истратила… Вот, значит, кто тебя учил, смертевед… Даже говоришь в точности как тот, врастяжку…
– Я просто мыл котелки, – пожимаю плечами. – Топил очаг, растирал порошки… Ты можешь взять танневер вместо ириса, ей не повредит.